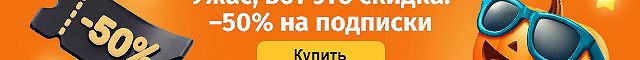
– Скажи мне, юный друг. Я тебе хотя бы чуточку нравлюсь? Я похожу на Розу Люксембург или хотя бы на Клару Цеткин?
– Я не знаю, – искренне ответил я, опуская глаза.
– Будь хотя бы снисходителен ко мне. Как были снисходительны к женщинам все истинные социал-демократы. И сними эти дурацкие сапоги. В них ты похож на революционера тридцатых годов.
– Ладно.
– Ну, разве так отвечают девушке, милый мой. Ты должен быть заботливым. Это право мужчины.
– Я не хотел тебя обижать. Просто я ещё не привык свободно разговаривать с женщинами на такие темы… Мой идеал Павка Корчагин.
– А хочешь, я покажу тебе Исаакиевскйй собор? – вдруг спросила она, круто меняя тему разговора.
– Хочу, – ответил я.
– Тогда пойдем. Дождь, кажется, перестал, – чувствуешь?
Она выставила из-под арки маленькую, просвечивающую насквозь ладонь и стала ловить в неё последние редкие капли.
– Да, – ответил я и осторожно взял её мокрую руку в свою, как будто сорвал яркий и дорогой цветок.
Так мы и шли до самого собора через весь Александровский садик, взявшись за руки, мимо горящих ярким пламенем гвоздик, мимо отцветающих на просторных клумбах тюльпанов, мимо седовласых стариков на скамейках и воркующих в песочницах юнцов.
В соборе она стала показывать мне разноцветную керамическую мозаику, выполненную каким-то известным мастером, и что-то рассказывала о нем. И при этом её тонкая рука была где-то над её русой головой, глаза были широко раскрыты, а голос дрожал.
Потом меня увлекли витражи из разноцветного стекла в высоких окнах собора, потом – висящий под куполом маятник, который то удалялся, то приближался бесшумно и медленно, как крохотная планета, отмеряя время уходящей эпохи.
– Говорят, он показывает вращение земли, – как о чем-то скучном и нереальном поведала Ирина. – Но всё это ерунда. Землёю движет, как ты сам понимаешь, хорошая революционная теория. А тебе лучше подняться наверх и посмотреть на город с высоты птичьего полета. Там прекрасная смотровая площадка. Светлого будущего ты оттуда, конечно, не увидишь. Но панораму города можешь изучить хорошо.
Вид города со смотровой площадки меня поразил. Сразу стало понятно, какой он древний, тесный и прокопченный за три минувших столетия. Какой он, в сущности, неказистый. Я решил, что если когда-нибудь придумаю покончить жизнь самоубийством, то прыгну именно отсюда. Отсюда мой последний полет будет выглядеть вполне естественным, как может считаться естественным всякий завершающий аккорд в музыкальном произведении, случайно разбередившем душу.
***
Вечером следующего дня я снова был у Ирины. Поднимался по лестнице на второй этаж заводоуправления и думал, как она встретит меня на этот раз. Чем обрадует или обескуражит. Какие ещё ассоциации навеет ей моя внешность? Что-то общее к тому времени уже было между нами. По её просьбе я сменил хромовые сапоги на обыкновенные черные ботинки. Я больше не походил на своего любимого литературного героя, но свой присущий только мне облик ещё не приобрел.
Вошел. Она посмотрела на меня с улыбкой и сказала примерно то же самое, что и вчера: «Садись, подожди минуточку, я сейчас. Только вот напечатаю ещё один приказ». Деловито потушила сигарету в массивной стеклянной пепельнице и стала очень быстро печатать на машинке, как будто играла знакомую мелодию на странном музыкальном инструменте. Я обратил внимание, что на этот раз выглядит она как-то по-другому. Лицо сосредоточенное, волосы аккуратно уложены и заплетены на затылке в замысловатый крендель; на носу невесть откуда взявшиеся модные очки в широкой перламутровой оправе; на безымянном пальце правой руки – красивый золотой перстень…
Через несколько минут мы вышли на улицу.
Был тихий вечер, не предвещающий ни дождя, ни ветра, когда особенно остро улавливаются запахи и звуки. Непривычная ясность была во всем, и от этого в душе какая-то возвышенная грусть.
Мы поспешили сначала в метро, потом вдоль кованой железной изгороди к кинотеатру «Гигант», где тогда шел американский фильм «Золото Маккены».
Когда в прохладном зале погас свет, я взял руку Ирины в свои ладони и положил себе на колени. Её тонкие пальцы, согретые в уютном тепле между моими ладонями, расслабились и размякли, как свежий хлебный мякиш. В полумраке кинозала она показалась мне ещё восхитительнее, чем на улице. Рядом была маленькая русоволосая женщина моей мечты.
После сеанса она решила рассказать мне о. себе, я охотно её слушал, и мы не заметили, как оказались в старом пустынном парке возле кинотеатра. Здесь на прохладных тропинках лежали вперемешку яркие пятна света и тени; беловато розовые, острые камешки и сморщенные фантики сухой прошлогодней листвы.
Для уединения мы выбрали одинокую скамью возле озера, густо заросшего кувшинками и кугой, рядом с которым белел каменный мостик, чем-то похожий на театральную декорацию. В густой тени под этим мостиком лениво млела серповидная осока.
Как много мы с Ириной в тот день говорили и как взволнованно, как откровенно. Меня переполняла восторженность первых минут долгожданной, настоящей, взрослой любви. Но я уже твердо знал, что с ней, зрелой женщиной, эти первые минуты – только начало, только прелюдия к ещё большему счастью. К восхитительному счастью обладания её телом. И перспектива этого продвижения к манящему будущему, казалась мне бесконечной, чувственно многообещающей.
– Меня никто ещё так не целовал, – признался я Ирине, когда немного успокоился.
– Это прекрасно, – ответила она, – значит, я буду первой. Теперь ты будешь помнить меня всю жизнь.
– Я не хочу только помнить, я хочу быть с тобой всегда.
– Ну, это мы посмотрим, потом, – ответила она с иронией.
– Поцелуй меня ещё.
– Пожалуйста.
– Твои губы напоминают вкус… весеннего утра.
– А твои отдают зимней свежестью.
Так пришел час, потом второй, третий. Головокружение от поцелуев постепенно улеглось. Мы целовались уже как бы по инерции. Я гладил её тёплую руку, что-то говорил, а сам уже чувствовал некую истому, которая предполагает дальнейшее наше сближение – продвижение в перспективу. Там, в этой манящей перспективе, было ещё очень много всего самого заветного. Ирина пока что позволила мне только самую малость, всего лишь на полшага продвинуться вперед. Она не отстранилась, когда я жадно поцеловал её в оголенную шею, не сбросила руку с тёплого, манящего бедра. Двигаясь дальше, моя рука уткнулась в живот, в крутом вираже стала опускаться ниже, ещё ниже. Мое сердце часто забилось в ожидании чуда. Ирина, не выпуская моих губ, издала какой-то странный и пленительный вздох… И в это время старческий голос где-то рядом произнес: «Побойтесь Бога, бесстыжие!»
Мы разом открыли глаза, отпрянули друг от друга, и увидели шагах в десяти от себя древнюю, мутноглазую и худую старуху.
– Бесстыжие… Люди кругом ходят, а они целуются, – забормотала старуха, удаляясь. – В наше время такого не было. Нет. В наше время нравы были другие. Распустилась, испортилась молодежь. Ох – хо – хо – хо! Какой стыд, какой позор!
Ирина с презрением посмотрела старухе в спину и сказала вполголоса:
– Завидует, старая дева. Старые девы все такие. Она бы рада сейчас стать распущенной и развратной, да время ушло.
– А мне почему-то её жаль, – откровенно признался я.
– Чтобы потом не жалеть, поцелуй меня ещё… Ты чувствуешь, какая я? Чувствуешь?
– Да.
– Какая же?
– Ты страстная.
– Это потому, что я ничего не боюсь и ни о чем не жалею… Хочешь… Хочешь, – пойдем ко мне сейчас же?
– Да. Очень хочу…
– А, может быть, не надо. Я где-то прочитала однажды: «Ты
нецелованных не трогай, неискушенных не тревожь» и что-то ещё в этом роде. Кажется, я нашла нецелованного. Ведь так? Ну почему ты ничего не говоришь? Боишься признаться? Глупый… Да тут и признаваться-то ни в чём не надо. Я и так всё чувствую. Я сама всё поняла… Ты не переживай, Это хорошо. Очень хорошо. Я тебя всему научу. Ты хочешь, чтобы я тебя всему научила?
– Да. Очень хочу.
– Или, может, не стоит? Ты встретишь когда-нибудь такую же неопытную девочку, как сам, и вместе вы всему научитесь. Ты полюбишь её по-настоящему, молодую, худую, угловатую, которая, как и ты, постоянно будет краснеть ни с того ни с сего… Может быть, правда, мне лучше оставить тебя в покое, не соблазнять? Ведь у тебя вся жизнь впереди. А я старше тебя на шесть лет. У меня своя колокольня, свой взгляд на мир. Мне уже скоро с базара ехать.
Я заметил, как она посерьёзнела и нахмурилась, это говоря, как задумчиво на меня посмотрела. И испугался, что она действительно переменит свое отношение ко мне: станет более холодной, более расчетливой, трезвой.
– Мы сейчас стоим у черты, – снова продолжила она назидательным тоном. – За этой чертой – падение или полет, – никто не знает. Но когда ты станешь настоящим мужчиной, я буду более требовательной к тебе. Учти это. Я заставлю тебя исполнять все мои прихоти, все желания. И ты не в праве будешь отказаться. Я буду обижаться на тебя, если ты не сможешь мои прихоти исполнить… Ты готов к этому?
– Я на всё готов, потому что люблю.
– Тогда я должна тебе признаться. До тебя у меня уже были мужчины. И я любила их.
– Я понимаю. Я понимаю, – промямлил я, опуская глаза и превозмогая странную растерянность.
– Одного из них я очень сильно любила, – продолжила она.
– А сейчас?
– Ненавижу. Он бросил Меня.
– Давно?
– Неважно… Он бросил меня не ради другой, а просто так. Понимаешь? Я ему стала не нужна. Наскучила.
– А я тебя никогда не брошу, – запальчиво признался я. – Никогда!
– Как знать… Может быть, я сама… Хотя, нет. Не будем сейчас об этом говорить. Не надо. Глупости это всё. Ведь тебе хорошо со мной? Хорошо?
– Очень!
– Ну вот и прекрасно.
И тут я для чего-то спросил:
– А кто был тот – другой?
– Другой?
– Тот, которого ты встретила потом?
– А… Он был музыкант… Он был много старше меня и много опытнее. Мы с ним редко встречались, и вскоре я поняла, что это не любовь. Это что-то другое… У него уже были взрослые дети и больная жена. И он для чего-то рассказывал мне о ней, о её болезни, о страданиях. Понимаешь. Странный был человек. Он часто выпивал, потом раскаивался, плакал. Мне иногда казалось, что он не в своем уме. Люди искусства – они все странные, как бы не от мира сего… Да, впрочем, ты с ними ещё и не сталкивался. У них особая жизнь, свои убеждения, взгляды и прочее. И все они жутко завидуют друг другу. Хотят друг друга перещеголять. Хотят быть в центре внимания. Позируют, блестят, и забывают, что без таланта ничего значительного достичь, невозможно. А без здоровья – тем более.
После этих слов она взглянула на меня с едва заметной улыбкой и как-то устало произнесла:
– И хватит об этом. А то я всё говорю, говорю, а тебе это, должно быть, неприятно. Ведь так?
– Нет, почему же. Я не могу осуждать тебя за то, что было в прошлом.
– И ты не передумал идти ко мне?
– Нет.
– Тогда знай, что я разрешу тебе делать со мной всё, что ты захочешь. Но тебе придется отказаться от некоторых привычных для тебя принципов… Ты пойдешь на это?
– Пойду, – ответил я с явной готовностью. Чем больше разных условий ставила она мне, тем сильнее было мое желание быть с ней.
– Я на все сейчас согласен.
– И тебя не остановит даже то, что я скверная женщина? Моя любовь развратит тебя, заставит страдать… Ты уже никогда не сможешь стать таким, каким был раньше. Ничего из того, что вскоре будет между нами, не потребовала бы от тебя ни одна неискушенная девушка, ни одна твоя подружка, ровесница. Подумай об этом.
– Я нашел тебя, и я счастлив. Почему же ты стремишься доказать мне, что это не так? Будто счастья не будет, – обиженно выпалил я.
– Потому что я не такая, как все.
– Я сразу это почувствовал.
– Да нет же. Ты совсем не так это понимаешь. То о чем ты говоришь – это романтизм, а я тебе хочу объяснить совсем другое. Это потому, что я, пока что, жалею тебя… Но потом я жалеть не буду. Учти это. Я стану безжалостной.
– Я согласен. Делай со мной, что хочешь.
– Ох, как легко ты со мной соглашается… Да пойми ты. Наша любовь будет не такой, как у всех. То, что я попрошу тебя сделать со мной, может показаться скверным. Во всяком случае, так считают многие… А таким, как ты, лучше начинать, как все молодые.
Она нервно закурила сигарету и стала с хрустом разминать свои длинные тёплые пальцы, загадочно глядя на меня.
– Нет, я определённо должна тебя оставить. Я должна отказаться от тебя. Ты слишком чист для меня.
– Но я не смогу без тебя сейчас.
– Скажешь тоже. Вот как раз сейчас ты ещё сможешь, а потом… неизвестно как всё сложится. Я могу испортить тебе жизнь.
– Я не боюсь. Делай со мной, что хочешь.
– Дурачок.
– Только поцелуй меня ещё раз.
– Дурачок…
***
До её дома по сонному летнему городу мы ехали на автобусе. Автобус был полупустой, скрипучий, провинциально тихий. По его крыше, едва просвечивающей, покрытой коричневым стеклом, поочередно скользили то свет, то тень. Люди в автобусе говорили вполголоса. Мягко шуршали шины. Я смотрел за окно, и мне казалось, что я еду по гладкой поверхности успокоенной реки вдоль каменистого берега с редкой растительностью в просветах между скал. И ничего в этой местности мне не знакомо, всё здесь ещё предстоит изучить и понять. Но, в то же время, всё, что меня сейчас окружает, удивительно красиво, заманчиво, всё завораживает.
От остановки автобуса мы дошли до коричневатого от пыльной листвы сквера, пересечённого по диагонали узкой глинистой тропой. Миновали его и оказались в пасмурном дворе п-образного пятиэтажного дома, на первый взгляд ничем не примечательного. Поднялись на второй этаж, открыли полутёмную, пустынную квартиру. Вошли в неё, и тут меня охватил какой-то непонятный страх. Мне показалось, что я не должен был вот так вот сразу приходить сюда. Тем более – днем. И ещё меня озадачил запах больницы, которым здесь было пропитано всё, запах какого-то едва уловимого тления. К тому же, я почти не знаю Ирину. Порой не понимаю, о чем она говорит, что думает, как представляет наши отношения в будущем. В этом смысле у нас с ней полная неопределенность.
Я смотрю на неё вопросительно, но она на этот раз понимает мой взгляд по-своему. Говорит: «Сейчас я включу музыку», – и ставит на проигрыватель «Первый концерт для фортепиано с оркестром» Чайковского. Я спрашиваю: «А почему, Чайковский?» Она отвечает: «Это мой любимый композитор». Оказывается, в её коллекции пластинок нет ни «Машины времени», ни Пугачевой, ни Высоцкого. Только Рахманинов и Чайковский.
Пока она плещется в ванной – я скучаю на диване и с интересом изучаю её комнату. Музыка каким-то образом помогает восприятию деталей, вносит некую гармонию в разнообразие незнакомых предметов. В потоке музыки мутный свет от зашторенного окна кажется таинственным, лаковая тональность книжного шкафа не слишком контрастирует с белой стеной, а единственный тонкий лучик света, отраженный белым подоконником, рассеянно застывает на потолке, едва пошевеливаясь в такт мелодии.
Возвратившись из ванной и протирая голову бархатистым полотенцем, она почему-то удивляется:
– Ты ещё не в постели?
– Нет, – растерянно отвечаю я.
– Значит, я забыла сказать. Я сейчас подсохну чуть-чуть и тоже прилягу. Раздевайся пока…
Она сказала это так обыденно, так просто, как будто мы с ней были знакомы уже много-много лет. И почему-то именно эта обыденность сразу сделала меня скованным.
Я медленно снимаю пиджак, брюки, рубашку, но плавок снять не могу. Это выше моих сил. Она с лукавой улыбкой смотрит на меня, потом шепчет ласково и снисходительно: «Совсем ещё мальчишка», – и начинает мне помогать своими ловкими, уверенными, тёплыми руками. Помогая, целует меня в грудь, в живот, а на её щеках в это время уже начинает проступать румянец разгорающейся страсти.
– Иди ко мне… Иди же, – шепчет ода.
Я падаю в её объятия. Я тону в её тёплой глубине. Целую, мну, восторгаюсь матовым совершенством её тела. Мобилизуя остатки своего здравомыслия, пытаюсь ей что-то шептать. Но в самый неподходящий момент она легко выворачивается из-под меня, опрокидывается на локти, круто прогибает спину и шепчет:
– Чувствуешь, какая я горячая? Обними меня сейчас, обними. Ближе, ещё ближе… Больше ничего не надо. Остальное я сама сделаю. Я так хочу. Так хочу. Так!
Через несколько восхитительных минут мы устало лежим на кровати и смотрим в потолок на круглую капельку света, которую в детстве я называл зайчиком.
– Сейчас ты вправе презирать меня, – вдруг говорит она.
– Я тебя люблю.
– Моя колокольня разрушилась. Я ничего не вижу с неё, – призналась она. Немного помолчала и добавила: – И всё-таки я скверная. Ты этого не почувствовал?
– Нет.
– Странно…
– Я просто люблю тебя.
– Будущее покажет, как ты меня любишь.
***
На следующий день я с самого утра у неё. Она быстро ходит по комнате, куда-то собирается, поясняет:
– Сестра звонила. Она уезжает на дачу, а ребенка оставить не с кем… Электричка уходит в десять часов. Надо успеть.
– Я тебя провожу.
– Если хочешь.
На улице я беру её за руку, поворачиваю к себе и вкрадчивым голосом говорю:
– Ирина, я заболел.
– Чем?
– Не чем, а кем. Я заболел тобой.
– И что ты намерен делать?
– Лечиться.
– Как?
– Любовью.
В метро на эскалаторе мы стоим совсем рядом и смотрим друг на друга пьяными от любви глазами. Потом она смущенно отворачивается и с мольбой в голосе произносит:
– Пожалуйста, не смотри на меня так.
– Почему?
– Ты меня изучаешь.
– Тебе кажется. Я просто…
– Как ты думаешь, на сколько тебя хватит? – неожиданно спрашивает она, не дав мне договорить, и ставит меня этим вопросом в тупик. Я готов сказать, что никогда её не брошу. Что я с ней счастлив как никогда, но боюсь, что для неё это и без моих слов ясно.
– Я буду с тобой всегда.
– Но я нехорошая, развратная женщина. Я люблю завоевывать мужчин.
– Ты святая. Теперь мне кажется, что все женщины такие.
– Х-м-м… Дурачок. Ты ещё совсем мальчишка. Ты не знаешь женщин.
– Мне кажется, что все они такие же, как ты.
– Ошибаешься.
– Я хочу, чтобы были такими же.
О проекте
О подписке
Другие проекты



