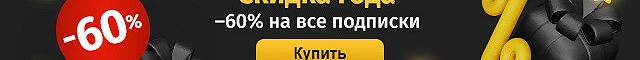
Незамеченный лист
Следующие несколько дней превратились в вязкую, серую массу, неотличимую от грязного снега за окном. Дело остывало, как труп в морге, покрываясь тонкой ледяной коркой бюрократической рутины. Я сидел за своим столом, и передо мной, как нерешаемый пасьянс, лежали два тупика. Первый – официальный, тот, что Зорин спустил сверху. Оперативники шерстили город, трясли притоны и информаторов, выискивая мифических сормовских гастролеров. Это была шумная, бестолковая работа, похожая на попытку вычерпать Волгу решетом. Она давала иллюзию деятельности, но не приближала к истине ни на миллиметр.
Второй тупик был мой собственный, тайный. Маленькая записная книжка Захарова. Я исписал несколько листов, пытаясь разгадать ее шифры. Цифры и даты не складывались ни в одну известную мне систему. Они были похожи на случайный набор чисел, бессмысленный, как речь пьяного. «Н. Ф.» – эти инициалы могли принадлежать кому угодно, от начальника склада до народной артистки. Но больше всего меня мучила последняя фраза: «Конверт у Н. Ф. Последний шанс». Она звучала как завещание. Как крик человека, стоящего на краю пропасти. Но этот крик никто не слышал.
Я чувствовал себя кладоискателем, который нашел карту, нарисованную на незнакомом языке. Сокровище где-то рядом, оно обжигает холодом, но путь к нему скрыт за семью печатями. И чем дольше я смотрел на эти каракули, тем яснее понимал, что без ключа эта книжка – просто макулатура. Доказательство, которое ничего не доказывает.
На четвертый день меня вызвал Зорин. Его кабинет пах уверенностью и свежей полиролью для мебели. Сам майор сиял, как начищенный самовар. Он лучился той особой энергией начальника, готовящегося доложить наверх об очередном трудовом подвиге.
– Присаживайся, Аркадий, – он указал на стул с непривычной любезностью, от которой у меня свело скулы. – Есть разговор. И новости. Хорошие.
Я сел. Ждал.
– Помнишь, я говорил тебе про сормовских? Взяли мы их. Вчера ночью, на теплой лежке. Всю шайку. И что ты думаешь? Раскололись, голубчики. Как миленькие. Берут на себя серию налетов по области. И наш продмаг тоже. Почерк один в один. Сейфы, автоген. Все сходится.
Он победоносно посмотрел на меня, ожидая, видимо, что я вскочу и начну аплодировать прозорливости руководства. Я молчал.
– И что, они про погром в подсобке тоже рассказали? Про распоротые мешки с сахаром? – спросил я тихо.
Улыбка Зорина на мгновение дала трещину.
– Мелочи, Волков, не цепляйся к мелочам. Ну, вошли в раж, обдолбались перед делом, бывает. Главное – состав есть. Признательные показания имеются. Орудия взлома изъяты. Дело можно передавать в суд.
– Они сами признались? Или им помогли?
Лицо Зорина окаменело. Он подался вперед, положив на стол свои мясистые, ухоженные руки. Его голос из добродушного стал металлическим.
– Аркадий Семенович. Я ценю твое рвение. Но иногда оно переходит в самодеятельность, которая вредит общему делу. У нас есть банда. Есть их признания. Есть указание сверху – закрыть вопрос в кратчайшие сроки. Город должен спать спокойно. Тебе ясно?
– Ясно, что ничего не ясно, – сказал я, не отводя взгляда. – Это не они. Это «глухарь», которого вы вешаете на первых попавшихся.
Зорин побагровел. Он встал, прошелся по кабинету. Остановился у окна, заложив руки за спину.
– Я пытался по-хорошему. Ты сам не хочешь. Ладно. Официально дело о налете на продмаг №18 закрыто поимкой преступной группы. Тебе объявляется благодарность за участие. А чтобы ты отвлекся от своих… фантазий, я подкину тебе работу. Настоящую. В пятом микрорайоне серия квартирных краж. Мелочовка, но жители жалуются. Вот и займись. Прояви свой аналитический ум. Ищи там свои невидимые нити. А в это дело больше не лезь. Никогда. Это приказ.
Я вышел из его кабинета, словно меня окатили ледяной водой. Дело было не в том, что меня отстранили. Дело было в стене. Глухой, железобетонной стене, на которой было написано: «Дальше хода нет». Система не искала правду. Система нуждалась в порядке, в отчетности, в спокойствии. А два трупа и распоротые мешки с мукой в эту благостную картину не вписывались. Их просто вымарали, закрасили свежей краской очередного рапорта. И теперь я был один. Совсем один со своей проклятой записной книжкой и ощущением, что где-то рядом ходит настоящий убийца, посмеиваясь над нашей милицейской суетой.
Вечером я вернулся в свою пустую квартиру. Она встретила меня тишиной и запахом пыли. После ухода Лены я так и не удосужился сделать уборку. На ее столике лежал забытый томик Цветаевой. Я взял его в руки. На форзаце ее рукой было выведено: «Аркадию, моему рыцарю без страха, но с упреком». Последние два слова были дописаны позже, другим, более резким почерком. Я захлопнул книгу. Рыцарь. Какой из меня рыцарь? Одинокий дурак, который бьется головой о стену, в то время как все остальные давно научились ее обходить.
Я налил себе стакан водки, выпил залпом, не закусывая. Огонь обжег горло, но не принес тепла. Я ходил из угла в угол, как зверь в клетке. Мысли метались, цепляясь одна за другую. Квартирные кражи. Зорин издевался. Он ссылал меня в глухую провинцию милицейской работы, подальше от опасных сквозняков большой политики, которая, как я теперь был уверен, сквозила из всех щелей этого дела.
Что-то не давало мне покоя. Какая-то мелочь, деталь, заноза в памяти. Я снова и снова прокручивал в голове первый день. Осмотр магазина, трупы, разгром. Кабинет директора. Папка. Распотрошенная папка от личного дела. Почему именно она? Что в ней могло быть такого, что заставило их буквально рвать картон? В личном деле – стандартный набор бумаг: автобиография, характеристики, приказы о назначении. Ничего, что стоило бы такой ярости.
И тут меня пронзила мысль. Простая, очевидная, как удар под дых. Мы осматривали то, что осталось. А то, что исчезло? Налетчики что-то искали. Нашли они это или нет? Судя по тому, с какой тщательностью они выпотрошили подсобку, – скорее всего, нет. Они искали до последнего. А потом… потом приехали мы. Криминалисты, оперативники, зеваки. Десятки людей. Все топтались, все дышали, все оставляли следы и смазывали чужие. А потом приехали уборщицы. И смыли, вычистили, выскребли все, что могло остаться. Все улики, все ниточки, все надежды.
Все?
Я застыл посреди комнаты. Вспомнил горы мусора, которые выносили из магазина. Мешки, коробки, битое стекло. Все это сваливали в большой мусорный контейнер во дворе. Его должны были вывезти на следующее утро. А если… если не вывезли? Если что-то осталось? Это был иррациональный, отчаянный порыв. Шанс один на миллион. Но это был единственный шанс, который у меня остался.
Я накинул пальто прямо на домашний свитер, сунул в карман фонарик и вышел на улицу. Ночь была холодной и сырой. Редкие фонари выхватывали из темноты мокрый, блестящий асфальт. Мой старенький «Москвич» завелся с третьей попытки, недовольно кашляя. Я поехал обратно на улицу Коминтерна. Назад, к самому началу.
Магазин выглядел зловеще. Окна, заколоченные крест-накрест досками, напоминали слепые глаза. Вокруг – ни души. Город спал, и ему не было дела до маленькой трагедии, случившейся здесь несколько дней назад. Я припарковался в тени деревьев и вышел из машины. Воздух был тяжелым и влажным, пахло прелой листвой и близкой рекой.
Мусорные баки стояли в глубине двора, рядом с глухой кирпичной стеной трансформаторной будки. Их было три. Два уже опустошили, они стояли с задранными вверх пустыми нутрами. Но третий, самый большой, был набит доверху. Видимо, мусоровоз еще не добрался до него. Сердце глухо стукнуло о ребра. Вот он, мой миллионный шанс.
Я подошел ближе. Запах ударил в нос – смесь гнили, сырости и чего-то кислого. Я включил фонарик. Луч выхватил из темноты омерзительное месиво: картофельные очистки, мокрые газеты, рваные пакеты из-под молока, селедочные головы. И среди всего этого – мусор из магазина. Обрывки картонных коробок, мятые консервные банки, битое стекло, которое тускло поблескивало в свете фонаря.
Я положил фонарик на крышку соседнего бака, направив луч внутрь, и, помедлив секунду, полез руками в эту холодную, мокрую массу. Это было отвратительно. Пальцы тонули в чем-то склизком, острый край консервной банки оцарапал руку. Я перебирал этот хлам, не зная, что ищу. Обрывок бумаги? Записку? Тот самый конверт? Мозг твердил, что это безумие. Что я, капитан милиции, роюсь в помойке, как последний бродяга, гоняясь за призраками. Но руки продолжали работать, методично, слой за слоем, разбирая этот могильник чужих отходов.
Я уже почти отчаялся. Мои руки замерзли и были перепачканы чем-то липким. Я был готов все бросить, признать свое поражение и поехать домой, пить дальше. Но тут мои пальцы нащупали что-то плотное, отличавшееся от размокшего картона и скользких очистков. Это был небольшой комок бумаги, сбившийся и пропитавшийся влагой. Я осторожно вытащил его. Это был обрывок машинописного листа. Грязный, в темных пятнах, похожих на мазут. Я поднес его к свету фонаря.
Большая часть текста была нечитаема – буквы расплылись от сырости. Но несколько строк в середине сохранились. Я с трудом, по буквам, начал разбирать текст. Машинка, печатавшая его, была старой, с выбитым шрифтом – буква «о» была чуть выше остальных.
«…необходимо прекратить любое давление. Его упрямство может дорого нам стоить. Если вопрос с Белозеровым должен быть решен в ближайшее время, то Захаров…»
Дальше текст обрывался.
Я стоял по колено в мусоре, под тусклым светом фонаря, и читал эти слова снова и снова. Кровь отхлынула от лица. Холод, который я чувствовал до этого, показался летним зноем по сравнению с тем ледяным обручем, что сковал мое тело.
Белозеров.
Эта фамилия не была просто фамилией. Это был символ. Иван Павлович Белозеров. Заместитель заведующего идеологическим отделом Горьковского обкома КПСС. Человек с трибуны. Человек с портретов в газетах. Один из тех, кто решал, как этому городу дышать, что думать и во что верить. Небожитель. Неприкасаемый. И его фамилия стояла в одном предложении с фамилией убитого директора магазина и каким-то «вопросом, который должен быть решен».
В один миг все встало на свои места. Весь этот кровавый маскарад с ограблением, вся эта показная жестокость – все было лишь прикрытием. Они искали не деньги. Они искали компромат. Компромат на одного из хозяев города. Захаров шантажировал его. Этот клочок бумаги был частью письма или доклада, в котором обсуждалась проблема Захарова. И ее «решили». Радикально и окончательно. А тот погром в подсобке… они искали нечто, что связывало убитого с Белозеровым. Тот самый «последний шанс» из записной книжки. Конверт.
Я огляделся по сторонам. Двор был пуст. Темные окна домов смотрели на меня безразлично. Но мне казалось, что из каждой тени, из каждого темного проема на меня смотрят сотни глаз. Паранойя? Нет. Острое, животное чувство опасности. Теперь я понимал, почему Зорин так яростно хотел закрыть дело. Он либо ничего не знал и просто боялся лезть в осиное гнездо, либо знал, и его приказ был способом заткнуть мне рот. Спасти свою шкуру и карьеру.
Я осторожно разгладил мокрый листок, сложил его в несколько раз и спрятал за подкладку пиджака, рядом с записной книжкой. Теперь у меня было два доказательства. Два призрака. Они не имели никакой юридической силы. С этой бумажкой, выловленной из помойки, я не мог пойти ни к прокурору, ни к Зорину. Меня бы подняли на смех. А потом, скорее всего, уволили бы из органов за профнепригодность и попытку дискредитации партийного работника. Или просто убрали бы. Тихо. Как убрали Захарова.
Я вылез из контейнера, вытер руки о штаны. На руке саднила царапина. Я шел к машине, и каждый шаг отдавался гулким эхом в моей голове. Я больше не был капитаном милиции, расследующим ограбление. Я стал дичью. Человеком, который случайно нашел тропу, ведущую в логово дракона. И теперь у меня было два пути. Забыть. Сжечь эту бумажку, выбросить книжку, заняться квартирными кражами и дожить до пенсии. Или пойти по этой тропе до конца, зная, что, скорее всего, она закончится обрывом.
Я сел в машину, закурил. Руки мелко дрожали. Дым «Беломора» показался непривычно горьким. Я смотрел на заколоченные окна магазина. Два трупа. Пожилой сторож с медалью «За отвагу» и старая кассирша, которая просто оказалась не в то время и не в том месте. Если я сейчас отступлю, их смерть так и останется висеть на каких-то сормовских уркаганах. А настоящий убийца будет и дальше стоять на трибуне, говорить правильные слова про светлое будущее и решать, кому жить, а кому умирать.
Выбор был сделан задолго до этой ночи. В тот самый день, когда я впервые надел форму. В тот день, когда я поклялся служить закону. Не Зорину, не обкому, не системе. Закону. Одному для всех.
Я завел мотор. Дрожь в руках унялась. На смену ей пришел холодный, расчетливый гнев. Теперь я знал имя своего врага. Я не знал его в лицо, не знал его мотивов до конца. Но я знал его имя. И этого было достаточно. Война перестала быть слепой. Она стала персональной.
О проекте
О подписке
Другие проекты