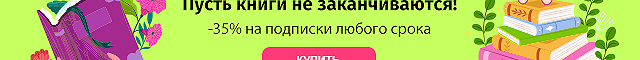
– Их есть нельзя, – зачем-то информирую я незнакомца, отчего он оборачивается. Лучше бы он этого не делал. Из груди вырывается непроизвольный стон при виде мальчика, повернувшегося ко мне. Со стучащим в груди сердцем наблюдаю, как мальчонка засовывает подсохшие цветочки себе в рот и жуёт, медленно, задумчиво шевеля челюстью. И всё бы ничего, да вот только полупережёванные лепесточки глицинии вываливаются из его рваной протухшей щеки. Внезапно он наклоняет голову вбок и смотрит на меня, как будто только сейчас заметив моё присутствие. Сверлит меня пронзительным взглядом единственного покрытого серой плёнкой глаза. Второй отсутствует вовсе. Я вижу на его месте чёрное отверстие, извергающее из себя какую-то нелицеприятную жижу, стекающую по мёртвому лицу. То мёртвое лицо перепачкано грязью и не выражает никаких эмоций. Тупой, ничего не видящий взгляд. Оно сплошь покрыто синяками, ровно, как и шея и грудь малыша. Я вижу это, потому что изорванная рубашка, та, что надета на нём, расстёгнута почти до пупка, а из груди торчит огромный кусок сильно заострённого металла.
Ловлю себя на мысли, что хочу спросить, не больно ли ему, и тут же одёргиваю себя, потому что взгляд улавливает движение его левой руки, не той, которой он так усердно срывал цветы и запихивал себе в рот. Другой, на которой кисть держится на куске пружинящей плоти, раскачивается из стороны в сторону, ударяясь о ногу искалеченного малыша.
– Почему ты здесь? – наконец выдавливаю я из себя, хоть и понимаю, что он вряд ли ответит, ведь мертвяки не могут разговаривать. Но он отвечает. Оборачивается и обходит игрушку, лежащую на полу. Грязного старого плюшевого кролика, совершенно не пригодного для игр. Парнишка прицеливается, а затем пинает его ногой, той, на которой нет ботинка, один лишь жёлтый полуслезший дырявый носок.
Он совсем ребёнок. Школьник, судя по всему. И по возрасту, и по одежде. Вот только он погиб давно. Ну да, как и моя мама. Что же тут удивительного, что он явился мне? Ещё одна заблудшая душа.
Эта игрушка мне чем-то знакома, но я не осмелюсь сказать почему. Наклоняюсь с искренним намерением поднять её с пола, (вернуть мальчишке? Забрать с собой? Нахера мне вообще это надо было?) и не могу, потому что рука проходит сквозь неё. Чёрные глазки-буравчики смотрят на меня уныло, будто спрашивают: «Что? И ты не смогла? Да как же так-то?»
– Что не так с этим зайцем? – спрашиваю я, разгибаясь, а затем боковым зрением улавливаю стремительное движение ребёнка по направлению ко мне. Ощущение, будто кто-то ускорил воспроизведение (моего сна? Где я вообще? Сон это или реальность?). Вместо шагов парнишки почему-то слышу скрежет сотен, а может, и тысяч жучков, ползущих по деревянным доскам. Такой громкий, такой мерзкий, что хочется зажать уши. «Они в моей голове?!» – думаю как раз перед тем, как больно падаю на пол, счёсывая в кровь локти. Отмечаю, что боль вполне реальная, одновременно слушаю ритмичные гулкие удары надрывающегося сердца. А после поворачиваю голову и забываю обо всём, потому как фактически втыкаюсь носом в разорванную плоть его гниющей щеки. Трупное зловоние разлагающегося тела. Движение его зубов и скользкое прикосновение цветочков, сдобренных слюной или, может быть, чем-то ещё. Мошки, медленно копошащиеся в уголке его невидящего (может, он не такой и невидящий) глаза.
«Его сейчас вырвет», – поражаясь спокойствию собственной мысли, думаю, глядя на его раздутые щёки, но в следующее мгновение одним сильным плевком, на которые, я уверена, не способны покойники, он выплёвывает мне в лицо содержимое своего рта, покрывая меня вязкой жгучей жижей. Эта приторно-зловонная смесь стекает по моему лицу, перекрывает воздух к носу, и потому я приоткрываю рот, хоть и жутко боюсь, что хоть одна частичка той гадости попадёт внутрь.
– Теперь видишь? – слышу я хриплый булькающий голос, совсем не похожий на голос ребёнка.
– Зачем ты, мать твою, это сделал?
Его равнодушный вопрос заставляет меня взбесится. Я вскакиваю на ноги, попутно смахивая пальцами слизь, что облепила лицо. И тут же понимаю, что теперь мы не одни. Что он сделал? Зачем всё это и кто эти люди? Оглядываясь, я насчитываю восьмерых, и вид их не внушает спокойствия. Три женщины, четверо мужчин и одна девочка-подросток.
Ощущение, что я попала в какое-то шоу, без приглашения, по принуждению, где мне предоставлена возможность лицезреть людей со всеми их ярко выраженными психическими расстройствами.
Смотрю на улыбающегося мне беззубым ртом лысого мужчину, одетого в серую, туго заправленную в брюки рубашку. Он как будто хочет, чтобы ему было тесно. Об этом говорят и его старомодные лупообразные очки, дужки которых впиваются в лицо, а глаза делают поистине огромными и сумасшедшими. И галстук-бабочка, что передавливает его отёкшую шею. Вот это удавление – намеренный ли его выбор? Или он просто не в курсе, что все, что на нем надето, мало ему? Во время раздумий о его внешности изо рта мужика начинает течь слюна. Капли стекают по подбородку и оставляют тёмные пятнышки на серой рубашке. А затем он закатывает глаза, впадая в транс, и начинает тереть свои ладони, будто испытывая страшный зуд. А когда руки его покрываются кровью, я уже точно знаю, что он не отдаёт отчёта ни своему выбору в одежде, ни своим действиям.
Отвожу от него взгляд и рассматриваю теперь вполне себе нормального на первый взгляд паренька. Высокий, молодой, может, только на пару лет старше меня. Довольно щуплый, но не худощавый. Скорее, похож на гончую, из тех, кого ноги кормят, чем на дохляка, обделённого здоровьем. Он смотрит на меня рыскающим взглядом, но, судя по всему, не видит. Темноволосый пацан явно не заинтересован, как здесь оказался. Сразу видно, что гложет его что-то другое. Куда более личное и глубокое, чем может показаться на первый взгляд. Стоит, опираясь на переднюю ногу, и яростно раскачивается взад-вперёд, как при синдроме навязчивых движений, из тех, что человек контролировать не может. Размышляя, грызёт передними зубами дымящуюся сигарету, тонкую, длинную, и то и дело откусывает кусочек за кусочком от фильтра, частички которого сплёвывает себе под ноги.
По соседству с ним вижу седобородого старика, похожего на профессора. На нём пиджак, немного великоватый, но вполне приличный, а из кармана рубашки торчит небрежно сунутый кем-то розовый платок. Дед крутится на одном и том же месте, словно его заело в автоматическом инвалидном кресле. На пледе, укрывающем его иссохшие ноги, лежит жёлтая резиновая уточка, из тех, какими играют в ванной комнате малыши. Но сколь бы меня ни раздражало его вращающееся кресло, почему-то не возникает желания подойти и остановить его, даже если бы я и могла это сделать. Похоже, это единственное, что отвлекает его мозг от печальных мыслей. «Пусть себе крутится», – думаю я и переключаюсь на женщину, облачённую в розовую балетную пачку.
Взгляд её блуждает, как у многих из них, словно во тьме. Но конкретно с ней дело тут не только в этом. Монголоидные черты лица говорят о серьёзном недуге, называющимся синдромом Дауна, коим и страдает эта любящая весь мир особа. Она похожа на огромного розового слона. Рыхлая и пухлая балерина, выполняющая всевозможные балетные па, на которые тело её не способно. Отыграв короткую программу, с потом, стекающим прямо в глаза и приоткрытый рот, женщина, которой никак ни меньше сорока, кланяется зрителям, разводя руки в стороны и раздавая своим почитателям поклоны, от которых её балетная пачка взмывает верх, открывая всеобщему обозрению жирный, покрытый целлюлитом зад. Жалкое зрелище, но, конечно, не для человека, привыкшего жить иллюзией.
Рядом с ней наклонившись, словно вторя её движениям, стоит мужчина, схватившийся за голову руками так, словно искренне желает проломить себе череп. На руках его перчатки, толстые и грубые, плотно обжимающие руки. Глаза зажмурены, и я точно не могу сказать, в чём причина его раскрасневшегося лица. То ли в давлении, которое он испытывает, то ли в алкоголизме, которым явно страдает. Понятия не имею, откуда мне это известно, но я знаю. Как знаю и то, что он доктор. И дело тут даже не в белоснежном костюме, которые носят только медицинские работники, и не в стакане, который торчит из кармана его белоснежных брюк. Просто знаю и всё. Мне так же известно, что он страдает от видений. Постоянных, жестоких, непрекращающихся.
На девочку-подростка, сидящую на коленках, больно смотреть. Мне откровенно не хочется знать, что послужило причиной нанесения всех этих застаревших ран на её теле, ныне превратившихся в белёсые шрамы. Их многообразие рассмотреть несложно, так как на девчонке лишь майка да старые растянутые шорты. Выглядит она неимоверно уставшей. Кажется, кинь в неё камешком, и она свалится как подкошенная. Тусклые волосы, которые она, похоже, давно уже не расчесывала, стянуты резинкой в невысокий хвост. Темные полукружия под глазами и худоба, которую не скроешь ничем. Но не это беспокоит меня, а то, как она, подставив руку к лицу, теребит вставленные под кожу ржавые булавки, передвигая их туда-сюда под своей истощённой плотью.
Из оставшихся двух старушек, так сильно не похожих друг на друга, одна из них напоминает ту старую даму, которая выбросила ожерелье за борт катера в фильме «Титаник». Сходство на редкость сильное, если бы не отсутствующий взгляд её серых глаз. Седые волнистые волосы распущены и спускаются чуть ниже плеч. На ней отделанная рюшами белоснежная сорочка, уходящая в пол, а поверх неё накинут халат, такой же белоснежный, как и вся она. Я вижу, как она дрожит всем телом, превозмогая холод и, протягивает ко мне поражённые артритом пальцы, вымазанные чем-то похожим на пластилин или глину. Цвета настолько яркие и красочные, что слепят мне глаза. «Может, она художница?» – думаю я.
Чёрное одеяние, укрывающее скрюченную пополам женщину с головы до пят, не даёт возможности определить её точный возраст. Плечи её сильно опущены к земле, будто под грузом водружённого кем-то на её спину мешка с песком или, может быть, землёй. О её преклонном возрасте говорят лишь крючковатые старые пальцы, скорее похожие на корни какого-то древнего дерева, чем на чью-либо плоть. Ими она и опирается, сложив их друг на друга, на самодельную тёмную трость. Кажется, я уже видела её где-то прежде. Может, и призадумалась бы об этом посерьезнее, да вот только меня отвлекает её вращающийся выпуклый глаз. Единственный, который виден мне через дырявую спущенную на лицо вуаль, прицепленную к шляпке причудливой формы.
– Кто все эти люди? – спрашиваю я у мальчугана, пристально наблюдающего за мной, потому как не узнаю ни одного из них. Но мальчик, от вида которого у меня сводит зубы, то ли не способен воспринимать мою речь, то ли намеренно игнорирует её. Вместо этого переводит взгляд на игрушечного кролика, лежащего чуть невдалеке, и начинает напевать:
– Свет луны окрасил зеркало пруда.
Два утёнка не спят, значит, будет беда.
Маленькие лапки к водной глади спешат.
Два глупых утёнка спать не хотят.
У меня холодеют пальцы. Это уже не просто страх за свою жизнь или из-за странного исчезновения матери. Этот стишок знаком мне. Он из моего далёкого детства. Детства, которое стёрлось из памяти подобно плохому воспоминанию.
– Где ты слышал этот стишок? Кто рассказал тебе?
– Одна милая женщина приходит ко мне иногда, когда страшно. Приходит, когда рядом кролик и она. Мне кажется, она пытается меня успокоить. Мне нравятся утятки, о которых она рассказывает. Жаль только, что всё плохо заканчивается.
– Плохо? – Я в недоумении. Не припомню и самого стишка, но точно знаю, что концовка не могла быть плохой. Сердцем чувствую. Не может быть такого. – Почему плохо?
– Ты сама всё узнаешь, – отвечает мне мальчик, хихикая. Смеётся надо мной?
– Тогда расскажи мне, как выглядит та женщина, что рассказывала тебе стишок, мне это очень…
– Я же говорила тебе не прикасаться к этим проклятым цветам! Ты непослушная девчонка! – вдруг истошно кричит мальчик, грозно болтая передо мной своей почти оторванной кистью. – Глупая… Глупая, неразумная девочка!
Я замираю, но не только от того, что пацан кричит голосом моей покойной матери, но и от того, что мне вдруг становится трудно дышать. Щёки раздуваются, как у хомяка, набившего рот орехами, но во рту моём вовсе не орехи. Он по самое горло забит фиолетовыми цветочками глицинии. Схватившись за горло, падаю на колени, пытаясь выплюнуть их, но у меня ничего не получается. А затем вдруг раздаётся едва различимый перезвон колокольчиков, тех, что валяются на веранде моей тётки.
– Ты что-то увидела? Я права?
Я разжала руку и увидела, как катится по столу её бокал с белым вином. То вино – кислое, перепревшее – залило мне джинсы. Обе мы смотрели, как бокал, падая, скатывается на мои ноги, а затем на дощатый прогретый солнцем пол. Внутренне я вся съежилась, ожидая звонкого звука бьющегося стекла, но бокал не разбился. Укатился под стол и замер в ворохе искромсанных стеблей. Я оглядела расползавшееся тёмное пятно на светло-голубых джинсах. Вдохнула резкий кислый запах вина и сказала:
– Всё лучше, чем запах этих грёбаных цветов.
– Каких цветов? – спросила тётка.
По-моему, вопрос абсолютно не уместен, если учесть, что почти вся веранда завалена истерзанными ею лилиями. Но мне почему-то показалось, что тёте доподлинно известно: не об этих цветах речь. Она подошла ко мне и положила руку на плечо, словно всё понимает. Словно старается поддержать меня, но мне нафиг это не нужно.
– Не бери в голову, – резко ответила я и встала с кресла, на этот раз точно не собираясь возвращаться. Что бы ни случилось. – Давай. Что ты там принесла? У меня сегодня ещё куча дел.
С минуту тётя смотрела на меня изучающе. «Ты что-то видела, – говорят её глаза. – Видела, но я не стану расспрашивать тебя что». Затем она начала протягивать ко мне руку с чем-то зажатым в большом мягком кулаке, но что-то остановило её на полпути. Возможно, капли крови на моей белой, подранной на локтях тунике. Капли, которых не должно быть в реальности. И в следующее мгновение она вернула в карман красного балахона то, зачем ходила в дом.
– Будь осторожна девочка, – сказала, и я понимаю, что она со мной прощается. Но зачем? Что-то подсказывало, что причиной тому послужило моё видение, смысла которого я так и не поняла.
– Задолбали. Обе, – сказала я и, отворачиваясь от неё, начала спускаться по ступенькам. Не стоило сюда приходить.
Она так и осталась безмолвно стоять на веранде. Но я не могла уйти, так и не спросив её ещё об одном:
– А цветы-то ты зачем всё-таки искромсала? – Я кинула взгляд на черное пятно пустующей земли.
– Сказала же. Она скоро умрёт – ответила Офелия так, словно это объясняло вообще всё.
О проекте
О подписке
Другие проекты