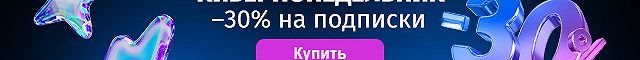
Мишель Фуко
Рождение клиники
Археология медицинского взгляда
Naissance de la clinique
© Presses Universitaires de France/Humensis, 1963
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2025
Предисловие
В этой книге идет речь о пространстве, о языке и о смерти; речь идет о взгляде.
В середине XVIII века Помм врачевал и успешно излечил одну истеричку, заставляя ее принимать «ванны от 10 до 12 часов в день на протяжении полных десяти месяцев». К концу этого лечения, направленного против иссушения нервной системы и способствующего ему жара, Помм увидел «мембранные участки, похожие на куски мокрого пергамента… отделявшиеся немного болезненно и ежедневно выходившие с мочой, тогда как поверхность уретры справа отслаивалась и выходила тем же путем». То же самое происходило «с кишечником, внутреннюю оболочку которого мы наблюдали выходящей через прямую кишку в другое время. Поверхность пищевода, трахеи, артерии и языка также отслаивались; и недуг выходил по частям либо с рвотой, либо с отхаркиванием» [1].
А вот как менее столетия спустя врач воспринимает анатомическое повреждение мозга и его оболочек; речь идет о «ложных мембранах», которые часто обнаруживаются у людей, страдающих «хроническим менингитом»: «Их внешняя поверхность, прилегающая к паутинному листку твердой мозговой оболочки, прикрепляется к этому листку то очень неплотно, так что их легко отделить, то прочно и плотно, и тогда бывает весьма трудно их развести. Они соприкасаются с паутинной оболочкой только своей внутренней поверхностью, и никак иначе они с ней не соединены… Ложные мембраны часто бывают прозрачными, особенно когда они весьма тонки; но обычно они беловатого, сероватого, красноватого и, реже, желтоватого, коричневатого и черноватого цвета. Это вещество нередко имеет различные оттенки в разных частях одной и той же мембраны. Толщина этих случайных образований весьма различна; порой они настолько тонки, что их можно сравнить с паутиной. Строение ложных мембран также весьма различно: тонкие мембраны имеют кожицу, напоминающую белковую пленку яиц, и не обладают сколько-нибудь различимой структурой. Другие часто обнаруживают на одной из поверхностей сетку кровеносных сосудов, перекрещивающихся в различных направлениях и наполненных кровью. Нередко они превращаются в наслаивающиеся одна на другую пластинки, между которыми довольно часто попадаются более или менее обесцвеченные сгустки крови» [2].
Между текстом Помма, в котором обрели свою окончательную форму старые мифы о нервной патологии, и текстом Байля, который уже в то время, из которого мы все еще не вышли, описал повреждения головного мозга при общем параличе, – различие и незначительное, и абсолютное. Абсолютное для нас, поскольку каждое слово Байля, с присущей ему точностью в деталях, направляет наш взгляд на мир, где всё зримо, тогда как первый текст говорит нам о фантазмах языком, лишенным чувственного подкрепления. Но что за фундаментальный опыт мог породить столь очевидное различие, если не наши восприятия, и где они зарождаются и находят себе основания? Кто может заверить нас в том, что врач XVIII века не видел того, что он видел, и что понадобилось несколько десятилетий, чтобы фантастические фигуры развеялись и очистившееся пространство позволило узреть истинную суть вещей?
Не было ни «психоанализа» медицинского знания, ни более или менее спонтанного отказа от воображаемых нагрузок; «позитивная» медицина – это не та медицина, что делает «объектный» выбор, который в конце концов приведет к подлинной объективности. Всё, что имело силу в том визионерском пространстве, где взаимодействовали врачи и больные, физиологи и терапевты (растянутые и скрученные нервы, сухой жар, затвердевшие или спекшиеся органы, возрождение тела под благотворным действием освежения и увлажнения), никуда не исчезло; скорее, оно было вытеснено и ограничено исключительностью больного, той областью «субъективных симптомов», которые теперь определяют для врача уже не способ познания, но мир объектов познания. Фантастическая связь между знанием и недугом, которая вовсе не была разорвана, устанавливается более сложным способом, нежели простое притяжение между воображениями; присутствие болезни в теле, его напряжение, его жар, потаенный мир внутренних органов, всё темное нутро тела, о которых долго грезили, не видя их, теперь разом оказались оспорены в своей объективности редукционистским дискурсом врача и стали рассматриваться как объекты его позитивного взгляда. Образы недуга не подверглись заклятию нейтрализующим знанием; они перераспределились в пространстве, в котором встречаются тела и взгляды. Что изменилось, так это скрытая конфигурация, в которой язык обретает свою опору, соотносится с ситуацией и занимает положение между тем, кто говорит, и тем, о чем говорят.
Что же до языка, то с какого момента, в силу какой семантической или синтаксической модификации можно признать, что он превратился в рациональный дискурс? Что за разделительная линия проходит между описанием, изображающим мембраны как мокрый пергамент, и другим, столь же внимательным к деталям, столь же метафорическим, которое видит, как они покрывают мозговую оболочку подобно белковой пленке яйца? Имеют ли «беловатые» и «красноватые» листки Байля большую ценность, надежность и объективность для научного дискурса, нежели сморщенные пластинки, описанные врачом XVIII века? Взгляд несколько более педантичный, словесный поток более неспешный и более внимательный к вещам, нюансированные выражения тоньше, порой не столь расплывчаты, – не есть ли это попросту, говоря медицинским языком, распространение стиля, который со времен Галеновой медицины из-за неразличимости вещей и их форм изощрялся в описании качеств?
Чтобы понять, когда произошла мутация дискурса, нужно, конечно же, заняться чем-то иным, нежели его тематическое содержание или логические модальности, обратившись к той области, где вещи и слова еще не разделены, где способ видеть и способ говорить еще сохраняют единство на языковом уровне. Нужно пересмотреть изначальное разделение на видимое и невидимое в том, как оно связано с разделением на то, что выражает себя, и тем, что безмолвствует: тогда артикуляция медицинского языка и его объекта предстанет как единая фигура. Но не в смысле первенства, вопрос о котором ставится лишь ретроспективно; лишь речевая структура воспринимаемого – то гулкое пространство, в котором язык обретает громкость и объемность, – может быть вынесена на равнодушный свет дня. Нужно раз и навсегда закрепиться и удерживаться на фундаментальном уровне пространственного распределения и вербализации патологического, где рождается и сосредоточивается многоречивый взгляд, который врач устремляет в тлетворную сердцевину вещей.
Современная медицина считает датой своего рождения последние годы XVIII столетия. Принимаясь размышлять о себе, она определяет исток своей позитивности как возврат от какой бы то ни было теории к непритязательному, но действенному уровню восприятия. В действительности этот мнимый эмпиризм основывается не на повторном открытии абсолютной значимости видимого, не на решительном отказе от систем с их химерами, но на реорганизации того явного и тайного пространства, которое было открыто, когда взгляд в тысячный раз остановился на человеческих страданиях. Тем не менее освежение медицинского восприятия, яркое озарение оттенков и вещей под взглядом первых клиницистов – это не миф; в начале XIX века врачи описали то, что на протяжении столетий оставалось за гранью видимого и выразимого; однако дело не в том, что они вернулись к восприятию после затянувшихся спекуляций или стали больше прислушиваться к разуму, чем к воображению; дело в том, что отношение видимого к невидимому, в котором нуждается всякое конкретное знание, изменило свою структуру и представило взгляду и языку то, что пребывало вне и за пределами их области. Между словами и вещами сложилась новая связь, побуждающая видеть и говорить, и порой дискурс действительно был столь «наивным», что казалось, будто он располагается на более архаичном уровне рациональности, словно бы это было возвращение к самому началу.
В 1764 году Ж. Ф. Меккель взялся изучать повреждения головного мозга при ряде заболеваний (апоплексия, мания, туберкулез); он использовал рациональный метод взвешивания равных объемов и их сравнения, чтобы определить, какие участки мозга иссохли, какие были переувлажнены и при каких болезнях. Современная медицина почти ничего не извлекла из этих исследований. Патология головного мозга в своей «позитивной» форме началась для нас, когда Биша, но прежде всего Рекамье и Лаллеман стали использовать свой знаменитый «молоточек с широким и тонким концом. Легкие удары по наполненному черепу не могут привести к сотрясениям, которые вызвали бы разрушения. Лучше начинать с задней части, потому что, когда остается сломать только затылочную часть, она бывает настолько подвижна, что можно промахнуться… У самых маленьких детей кости слишком мягкие, чтобы их можно было разбить, и слишком тонкие, чтобы можно было их распилить; их нужно разрезать крепкими ножницами…» [3]. И вот плод трудов: из-под аккуратно расколотой скорлупы показывается какая-то мягкая сероватая масса, покрытая слизистой оболочкой с прожилками крови, жалкая бренная мякоть, в которой сияет наконец-то освобожденный, вынесенный на свет дня объект познания. Артистическая ловкость крушителя черепов потеснила научную точность взвешивания, однако именно в этом и состоит наша наука со времен Биша; точный, но не подлежащий измерению жест, открывающий взгляду всю полноту конкретных вещей, с четкой сеткой их качеств, утверждает объективность более научную, чем инструментальное опосредование количества. Медицинская рациональность погружается в чудесные глубины восприятия, предлагая, как первый лик истины, крупицы вещей, их цвет, их пятна, их твердость, их связь. Пространство опыта отождествляется теперь со сферой внимательного взгляда, с той эмпирической бдительностью, что открыта лишь очевидности зримого содержания. Глаз становится хранилищем и источником ясности; он способен вывести на свет истину, которую он обретает в той мере, в какой он высвечивает ее; раскрываясь сам, он впервые открывает истину: перелом, знаменующий переход от мира классической ясности, от «Просвещения» к XIX столетию.
Для Декарта и Мальбранша видеть значило воспринимать (даже в самых конкретных формах опыта: занятия анатомией у Декарта, микроскопические наблюдения у Мальбранша); однако речь шла о том, чтобы, не отнимая у восприятия его чувственного содержания, сделать его прозрачным для работы ума: свет, необходимое условие всякого взгляда, был элементом идеальным, тем не поддающимся описанию местом рождения, где сущность вещей совпадала с их формой, от которой вещи получали свою телесную геометрию; доведенный до совершенства акт видения вновь растворился в простой и неизменной фигуре света. В конце же XVIII века видеть означало позволить опыту обрести прежде всего телесную непрозрачность; твердость, сокрытость, плотность вещей, замкнутых в самих себе, обладающих силой истины, которую они получают не от света, но от неспешности взгляда, который их видит, обтекает и мало-помалу проницает их, который только и может их осветить. Нахождение истины в темной сердцевине вещей парадоксальным образом связано с той присущей эмпирическому взгляду силой, что обращает их ночь в день. Весь свет исходит от тонкого лучика глаза, который теперь обращается вокруг плотных предметов и заодно говорит нам об их месте и форме. Рациональный дискурс зиждется не столько на геометрии света, сколько на неподатливой, непроницаемой плотности предмета; прежде всякого познания, источник, область и границы опыта задаются его темным присутствием. Взгляд пассивно связан с этой изначальной пассивностью, которая ставит перед ним бесконечную задачу пройти через этот опыт до конца и овладеть им.
Он принадлежит языку вещей, и, быть может, только он делает доступным человеку такое знание, которое не было бы лишь историческим или эстетическим. То, что исследовательская деятельность человека превращается в бесконечный труд, более не помеха для опыта, который, признавая свою ограниченность, расширяет свои задачи до бесконечности. Особое качество, неосязаемый цвет, уникальная и непостоянная форма, приобретая статус объекта, обретают вес и устойчивость. Никакой свет теперь не может растворить их в идеальных истинах, зато устремленный на них взгляд пробуждает их и придает им ценность на почве объективности. Отныне взгляд не умаляет, но утверждает человека в его неотъемлемом качестве. И теперь вокруг него может сложиться рациональный язык. Объект дискурса может быть также субъектом, а фигуры субъективности при этом не меняются. Именно эта формальная и глубинная реорганизация, а вовсе не отказ от старых теорий и систем сделала возможным клинический опыт; она сняла старый аристотелевский запрет: теперь, наконец, можно было распространить научно структурированный дискурс на индивида.
Это обращение к индивиду наши современники рассматривают как «частное суждение» и как концентрированную формулировку старого медицинского гуманизма, столь же древнего, как человеческая жалость. Безмозглые феноменологи понимания смешивают эту полусырую идею с песком своей концептуальной пустыни; несколько эротизированный словарь «свидания» и «пары врач-больной» изнуряется в своем стремлении сообщить бледную немочь супружеских фантазий этой необходимости взаимодействовать. Клинический опыт – это первое в западной истории открытие конкретного индивида на языке рациональности, это важнейшее событие в отношении человека к самому себе и языка к вещам – вскоре стал восприниматься как простое, неконцептуализированное соприкосновение взгляда и лика, взора и безмолвного тела, своего рода контакт, предшествующий всякому дискурсу и не встречающий никаких трудностей с языком, в результате которого два живых индивида оказываются «заключены» в общей, но не обоюдной ситуации. В своих последних конвульсиях так называемая либеральная медицина, взывая к открытому рынку, ссылается на старые права клиники, понимаемые как частный контракт и негласное соглашение, заключаемые между людьми. При таком взгляде пациенту приписывается способность в разумных пределах – не слишком много и не слишком мало – стать причастным к общей форме научного исследования: «Чтобы иметь возможность предложить каждому нашему больному наиболее подходящее для его болезни и для него самого лечение, мы собираем объективное и полное представление о его случае, мы собираем его личное досье (его «наблюдение»), все сведения, которыми мы о нем располагаем. Мы наблюдаем его так же, как наблюдаем звезды или проводим лабораторный опыт» [4].
С чудесами всё не так просто: мутация, которая позволила и которая по сей день позволяет «постели» больного превращаться в поле научных исследований и дискурса, – это не гремучая смесь из старых привычек с еще более древней логикой или знания с причудливым чувственным сочетанием «такта», «взгляда» и «чутья». Медицина как клиническая наука возникла в условиях, определяющих наряду с ее исторической возможностью сферу ее опыта и структуру ее рациональности. Они формируют то a priori, которое теперь можно воплотить в жизнь, быть может, потому, что рождается новый опыт болезни, предлагающий возможность исторического и критического осмысления старого опыта.
На этой странице вы можете прочитать онлайн книгу «Рождение клиники. Археология медицинского взгляда», автора Мишель Фуко. Данная книга имеет возрастное ограничение 18+, относится к жанру «Литература 20 века». Произведение затрагивает такие темы, как «развитие медицины», «история медицины». Книга «Рождение клиники. Археология медицинского взгляда» была написана в 1963 и издана в 2025 году. Приятного чтения!
О проекте
О подписке
Другие проекты
