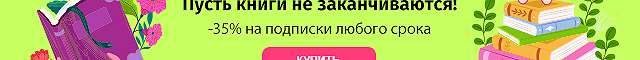
Леонид Кацис
Владимир Маяковский. Роковой выстрел: Документы, свидетельства, исследования
В оформлении обложки использовано изображение, предоставленное ФГУП МИА «Россия сегодня»
Автор и издательство выражают благодарность директору Государственного музея В.В. Маяковского А.В. Лобову за разрешение опубликовать материалы из музейного фонда.
© Л. Кацис, текст, составление, 2018
© Оформление, ООО «Издательство АСТ», 2018
Предложение читателям
Два момента привлекают особое внимание в судьбе любого знаменитого человека: момент, когда осознается его особость, если не гениальность, на фоне современников и, естественно, момент его ухода.
Особую важность обе эти знаковые точки обретают тогда, когда момент ухода человека из жизни определяется им самим. Это, естественно, создает и особый ретроспективный взгляд на момент прихода художника в мир.
Судьба Владимира Маяковского дает нам именно такой пример.
Разумеется, поэта продолжают читать, современные поэты вполне открыто пользуются его находками, образами и достижениями, даже рекламы фирм по установке пластмассовых окон сознательно стилизуются под знаменитые маяковские «Окна РОСТА».
Станция московского метро «Маяковская», стоящая на Триумфальной площади, побывшей несколько десятилетий площадью Маяковского, и вновь ставшая Триумфальной, в это самое время обрела новый выход. Он являет собой сегодняшнюю вариацию образа Маяковского в монументальной форме, находящуюся прямо под Триумфальной площадью, на которой стоит памятник Маяковскому.
А вот знаменитый Музей Маяковского на много лет оказался закрыт, его экспозиция в том самом доме с «комнатенкой лодочкой», где погиб поэт, разрушена безо всякой цели и лишь сейчас, кажется, восстанавливается. О доме Бриков – Маяковского, где был знаменитый старый музей поэта, даже речи нет. Только мемуары. А вот маленькая квартирка на Красной Пресне, где жила его семья, мать с сестрами, стала выставочным залом Музея Маяковского вместе, кстати, с домиком А.П. Чехова на Садово-Каретной улице. Там теперь проходят выставки того же Музея Маяковского. А сам поэт в свое время написал лишь статью «Два Чехова» да издевался над «дядями Ванями и тетями Манями». Но такой уж сегодня московский городской контекст Маяковского, существенно отличный от еще недавно так привычного.
Маяковский сегодня и не «Начинается», как у Николая Асеева в поэме, написанной через 10 лет после смерти автора «Во весь голос», и не «Воскрешается», как в книге ниспровергателя Маяковского и его трагического последователя в роковом шаге Юрия Карабчиевского, и даже не «Продолжается», как называются сборники Музея Маяковского, на время заместившие сам музей.
Маяковский существует в литературе и истории как-то независимо от всего этого, почти как станция подземки «Маяковская» под Триумфальной площадью.
И так же независимо от поэта живет его миф, главное место в котором занимает бесконечный спор о том, что привело к «Роковому выстрелу», была ли это рука самого Маяковского, направлял ли кто-то эту руку, боялся ли чего-то Маяковский в 1930 году из совершенного им до этого и т. д.
Все эти точки зрения будут представлены на страницах нашей книги.
Но мы попробуем здесь сделать один шаг, который, как кажется, не делал еще никто.
Мы предлагаем в этой книге прочесть и известные отзывы о смерти Маяковского, например, Марины Цветаевой или Бориса Пастернака, прочесть на фоне того, что можно узнать «о жизни и смерти» Маяковского из их же обращений к поэту.
Так, Борис Пастернак написал не только главу о Маяковском в «Охранной грамоте», но и две редакции «Баллады» «Бывает, курьером на борзом…».
Их анализу посвящена целая глава, которая находится в этой книге. Здесь лишь кратко заметим, что в «Балладе» 1916 г. молодой Пастернак еще только предчувствует трагический конец поэта, впрочем, напророченный в «Трагедии» Владимир Маяковский»; в «Балладе» 1928 г. ее автор уже едва ли не заговаривает Маяковского от приближающейся Трагедии без кавычек, а в знаменитой «Охранной грамоте», уже зная все до «точки пули в конце», и подводит итоги, и ищет те самые глубинные основания неизбежного, которые, как показывают стихи, а не посмертная глава о Маяковском из «Охранной грамоты», были видны автору «Сестры моей – жизни» с самого начала.
«Охранная грамота» ценна для нас и еще одним: в ней мы находим имена всех главных героев нашей книги, окружавших Маяковского в его последние дни, однако героев, которые пытались на протяжении всей жизни понять Маяковского от начала и до конца.
Это и Николай Асеев, и Марина Цветаева, и Илья Сельвинский, и, естественно, сам Пастернак.
Поэтому самым верным введением к нашей книге представляется комментированное прочтение именно «Охранной грамоты» с попыткой взгляда сквозь этот текст на названных в ней поэтов – современников Маяковского.
Пастернак вспоминал о первой встрече: «…я не отрываясь наблюдал Маяковского. Кажется, так близко я тогда его видел впервые. Его «э» оборотное вместо «а», куском листового железа колыхавшее его дикцию, было чертой актерской. Его намеренную резкость легко было вообразить отличительным признаком других профессий и положений. В своей разительности он был не одинок. Рядом сидели его товарищи. Из них один, как он, разыгрывал денди, другой, подобно ему, был подлинным поэтом. Но все эти сходства не умаляли исключительности Маяковского, а ее подчеркивали. В отличье от игры в отдельное он разом играл во все, в противность разыгрыванью ролей, – играл жизнью. Последнее, без какой бы то ни было мысли о его будущем конце, улавливалось с первого взгляда. Это-то и приковывало к нему, и пугало»[1].
Разумеется, Пастернак, автор «Сестры моей – жизни», прекрасно знал в 1930–1931 гг., что говорил. «Будущий конец» Маяковского был уже историей. Пастернак, когда-то давно, уже решил для себя, в полном соответствии с названием своей книги, не играть в жизнь и, разумеется, смерть. И лишь в «Гамлете» из «Доктора Живаго» он примерил на себя смертельный поступок своего предшественника. Хотя это и не была пуля, пущенная в себя собственной рукой.
Пастернак продолжал: «За его манерою держаться чудилось нечто подобное решенью, когда оно приведено в исполненье и следствия его уже не подлежат отмене. Таким решеньем была его гениальность, встреча с которой когда-то так его потрясла, что стала ему на все времена тематическим предписаньем, воплощенью которого он отдал всего себя без жалости и колебанья»[2].
Вписав однажды в прозу о Маяковском «Сестру мою – жизнь», Пастернак развивает мысль упоминанием своих же «Тем и вариаций», окруженных вариацией «Священного писанья» из «Сестры моей – жизни», из ее железнодорожного «расписанья» – «предписаньем».
Это очень важное место. Ведь пишется все это сразу по смерти Маяковского, когда никому еще не приходит в голову искать внешних убийц за какой-то портьерой, проникших в комнату, где был Маяковский, и т. д.
Ведь пастернаковское «предписанье» ничего не значило для тех, кого нам предлагают в убийцы Маяковского. Это слишком разные «предписанья» и «Приказы», далеко не «Армии искусства».
Через пару абзацев Пастернак высказался еще более прямо: «Искусство называлось трагедией. Так и следует ему называться. Трагедия называлась «Владимир Маяковский». Заглавье скрывало гениально простое открытье, что поэт не автор, но – предмет лирики, от первого лица обращающейся к миру. Заглавье было не именем сочинителя, а фамилией содержанья»[3].
Итак, «пуля в конце» или любая другая ситуация, имя которой «Трагедия», в реальной жизни, становилась неизбежной.
И если бы не первая и вторая «Баллады» Пастернака, можно было бы сказать, что это ретроспективное мнение. Но мешает так думать именно поэзия Пастернака, имеющая точные даты и адресата.
Через несколько страниц Пастернак огласил тот список имен поэтов, которые, за исключением самоубийцы Есенина, были в прямой связи с Маяковским к моменту его ухода из жизни, и откликнулись на роковой выстрел.
Понятно, что Есенин уже ничего не мог сказать о смерти автора стихов на его собственную смерть – «Сергею Есенину», по которым десятилетия определяли свои поэтические и читательские предпочтения поэты и читатели поэзии: «Однако вершиной поэтической участи был Маяковский, и позднее это подтвердилось. Всякий раз, как потом поколенье выражало себя драматически, отдавая свой голос поэту, будь то Есенин, Сельвинский или Цветаева, именно в их генерационной связанности, то есть в их обращенье от времени к миру, слышался отзвук кровной ноты Маяковского. Я умалчиваю о таких мастерах, как Тихонов и Асеев, потому что ограничиваюсь и в дальнейшем этой драматической линией, более близкой мне, а они выбрали для себя другую».
Что это означает?
Прежде всего то, что и Асеев, и только к старости вспомнивший, что он ученик Николая Гумилева, Николай Тихонов выбрали путь успешных советских поэтов и Сталинских лауреатов. О последнем, равно как и о том, что через 10 лет именно за поэму «Маяковский начинается» 1940 г. Николай Асеев получит Сталинскую премию, которая, несмотря на все старания, Пастернаку так и не досталась, о чем в 1930 г. автор «Охранной грамоты» знать еще не мог, да и премии такой еще не было.
Сельвинский же всю жизнь проборолся с Маяковским, сломав себе на этом поэтический хребет, который и так не был похож на «Флейту-позвоночник». Но к 1931 г. лидер группы Литературный Центр конструктивистов, с одной стороны, был автором антилефовских и антимаяковских романа в стихах «Пушторг» и «Декларации прав поэта», а с другой, его группа была «идеологически» разгромлена, сам же мэтр пошел работать на московский Электрозавод сварщиком, сочинял «Электрозаводскую газету» и «Как делается лампочка».
И все бы это можно было отнести к оставшимся советским поэтам первых пореволюционных лет способам выживания, если бы не тот самый Электрозавод.
Похоже, что выбор завода был далеко не случен.
Ведь разгромленная группа ЛЦК ненадолго переименовалась в группу «М 1», по названию будущего (!) первого советского автомобиля «Эмка», называвшегося именно так, но производившегося, естественно, на Автозаводе им. Молотова в Нижнем. А 1 октября 1931 года московский автозавод стал именоваться «1-й государственный автомобильный завод имени Иосифа Виссарионовича Сталина». Чего Сельвинский и, тем более, Пастернак в момент писания и даже сдачи в печать «Охранной грамоты» знать не могли.
Равно как не знали они тогда, что именно сталинские слова о Маяковском декабря 1935 г. побудят Б. Пастернака поблагодарить Вождя за освобождение от занятия «вакансии поэта», а Сельвинского сломают навсегда.
И все же выбор для «перековки» именно Электрозавода был для Ильи Сельвинского совсем не случаен. Не будем «читать в сердцах» и гадать, не было ли бы пародией для Сельвинского пойти работать после смерти Маяковского, владельца прославленной и осмеянной легковой «Реношки», на автомобильный завод, производивший грузовики.
А вот что известно совершенно точно, последними стихами Маяковского в жизни были именно рекламы «Электрозавода». И здесь выбор Сельвинского был верен.
Но вернемся к Пастернаку и «Охранной грамоте».
О соотношении реальной жизни и жизни поэта, применительно к неизбежным в разговоре о Маяковском, Блоке, сгоревшем, но написавшем «Двенадцать», и Есенине, сказал сам Пастернак, не переживший, правда, ни Николаев Асеева и Тихонова, ни Илью Сельвинского.
Пастернак ретроспективно рассуждал: «Время и общность влияний роднили меня с Маяковским. У нас имелись совпаденья. Я их заметил. Я понимал, что если не сделать чего-то с собою, они в будущем участятся. От их пошлости его надо было уберечь. Не умея назвать этого, я решил отказаться от того, что к ним приводило. Я отказался от романтической манеры. Так получилась неромантическая поэтика «Поверх барьеров».
Но под романтической манерой, которую я отныне возбранял себе, крылось целое мировосприятье. Это было пониманье жизни как жизни поэта. Оно перешло к нам от символистов, символистами же было усвоено от романтиков, главным образом немецких.
Это представленье владело Блоком лишь в теченье некоторого периода. В той форме, в которой оно ему было свойственно, оно его удовлетворить не могло. Он должен был либо усилить его, либо оставить. Он с этим представленьем расстался. Усилили его Маяковский и Есенин.
В своей символике, то есть во всем, что есть образно соприкасающегося с орфизмом и христианством, в этом полагающем себя в мерила жизни и жизнью за это расплачивающемся поэте, романтическое жизнепониманье покоряюще ярко и неоспоримо. В этом смысле нечто непреходящее воплощено жизнью Маяковского и никакими эпитетами не охватываемой судьбой Есенина, самоистребительно просящейся и уходящей в сказки».
Слово, как видим, произнесено: «самоистребительно». И здесь уже не важно, петля это, пуля или просто невозможность жить дальше, ведущая к «естественной» смерти.
Даже слова, которыми Пастернак описывает всего лишь возможное влияние Маяковского на себя и которое кажется ему пошлостью, описывается в терминах самоубийства: «если не сделать чего-то с собою».
Эта параллель очень важна в связи с составом предлагаемой книги. Ведь все «обычные» люди, не поэты, больше рассуждают о том, что им ближе: о бытовых самоубийствах, о самоубийствах от несчастной любви, о таинственных убийствах, часто сводящихся к кухонным сварам, кончающимся поножовщиной.
Пастернак – совсем другое дело. Он и поэт, и человек, размышлявший о самоубийстве, и автор стихов и прозы о самоубийстве Маяковского, разделенных четвертью века.
Тогда, в 1930-м Пастернак решил совместить две смерти: Пушкина, чей сталинский юбилей смерти в 1937 году тогда еще не просматривался, а веселая 125-летняя годовщина, которая была встречена «Юбилейным» Маяковского, и смерть самого автора предложения «подсадить на пьедестал».
Вот этот текст, который сегодня требует очень внимательного разбора:
«Я расскажу о той из века в век повторяющейся странности, которую можно назвать последним годом поэта.
Вдруг кончают не поддававшиеся завершенью замыслы. Часто к их недовершенности ничего не прибавляют, кроме новой и только теперь допущенной уверенности, что они завершены. И она передается потомству.
Меняют привычки, носятся с новыми планами, не нахвалятся подъемом духа. И вдруг – конец, иногда насильственный, чаще естественный, но и тогда, по нежеланью защищаться, очень похожий на самоубийство. И тогда спохватываются и сопоставляют. Носились с планами, издавали «Современник», собирались ставить крестьянский журнал. Открывали выставку двадцатилетней работы, исхлопатывали заграничный паспорт»[4].
Разумеется, Пастернак мог выбирать любые сопоставления. Но издание «Современника» Пушкиным и распад «Лефа», закрытие «Нового Лефа» и вступление в РАПП Маяковского выглядят как контрапункт. Дуэль и самоубийство даже самому Пастернаку показались не совсем параллельными, отсюда и идея «нежелания защищаться» у Пушкина.
Сопоставления явно не выстраивались, ведь реальный выстрел Маяковского и дуэль Пушкина лишь на очень метафизическом уровне одно и то же.
А вот следующие начальные слова почти дословно воспроизводят то, о чем напишет Лиля Брик в статье «Предложение исследователям», которую мы внимательно прочитаем в этой книге.
Пастернак знал, что: «…другие, как оказывается, в те же самые дни видели их угнетенными, жалующимися, плачущими. Люди целых десятилетий добровольного одиночества вдруг по-детски пугались его, как темной комнаты, и ловили руки случайных посетителей, хватаясь за их присутствие, только бы не оставаться одним. Свидетели этих состояний отказывались верить своим ушам. Люди, получившие столько подтверждений от жизни, сколько она дает не всякому, рассуждали так, точно они никогда не начинали еще жить и не имели опыта и опоры в прошлом.
Но кто поймет и поверит, что Пушкину восемьсот тридцать шестого года внезапно дано узнать себя Пушкиным любого – Пушкиным девятьсот тридцать шестого года»[5].
Понятно, что здесь Пастернак всего лишь сопоставлял две неестественных смерти двух 37-летних поэтов. Но Пушкин 1936 г. – это точно так же за год до юбилея 1937 г., равно как 1836 – это за год до дуэли. При этом не оставляет впечатление, что эта игра в «6» и «7» связана с представлением Маяковского о том, что «в терновом венке революции грядет шестнадцатый год», а не хлебниковско-ленинский 1917-й.
На этой странице вы можете прочитать онлайн книгу «Владимир Маяковский. Роковой выстрел», автора Леонида Кациса. Данная книга имеет возрастное ограничение 12+, относится к жанру «Биографии и мемуары». Произведение затрагивает такие темы, как «исторические исследования», «русская литература». Книга «Владимир Маяковский. Роковой выстрел» была написана в 2018 и издана в 2018 году. Приятного чтения!
О проекте
О подписке
Другие проекты
