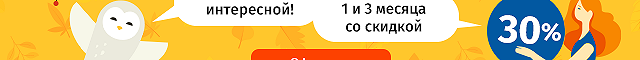
Глава пятая
Шаркиины28
И встанут на пути каменистые гряды, вспарывающие песчаные барханы, уходящие туда, к закрывающим полнеба горам. Джебель-Тур29! Как вместить тебя в своем сердце? Как пройти это нагромождение песка и камней и уцелеть?
Смирись! Оставь свою дерзость для другой земли. Вмести свою жизнь, и прошлую и будущую, в один маленький скромный шаг и сделай его.
А потом сделай еще один шаг, и еще.
Только так можно пройти Джебель-Тур.
Впереди, как всегда, пойдет неприхотливый ослик, на которого взгромоздится Юнус со своими заунывными напевами, от которых, кажется, засыхают колючки на пути. За ним неторопливо пойдут пять верблюдов с глухим Али на первом из них, палатками, припасами и добром – на остальных и Иллели с Даждом на руках – на последнем. Позади верблюдов встанет конь с Бахиром на спине, кося глазом и пугливо пробуя копытом дорогу.
Всю первую половину дня Бахир будет держаться подальше от первого верблюда с погонщиком Али, поглядывая на него украдкой и затаенным, но неистребимым любопытством и ожидая какого-нибудь внезапного несчастья с ним.
Забьется ли он в падучей? Упадет ли с верблюда, припеченный солнцем? Уж эти прорицатели! Скажут себе мимоходом что-нибудь и пойдут своей дорогой, а ты знай накручивай мозги на седло: чего теперь ждать?
Но вот – солнце давно перевалит на вторую половину дня, а Али все так же будет сидеть, сгорбившись, на своем верблюде, а вокруг будет расстилаться все та же однообразная картина: камни и песок, песок и камни.
Так и есть, – шарлатан, собака и сын собаки!
Бахир пришпорит коня, одолевая небольшое всхолмие, и остановится, чтобы оглядеться. Потом махнет рукой Юнусу: привал!
Юнус издаст протяжный вибрирующий крик, хорошо понятный и ослам, и верблюдам, и маленький караван остановится. Верблюды тут же опустятся на землю, пряча головы в тень, а осел оспорит перед конем найденную былинку. Бахир прикажет палатки не ставить – привал недолгий. Просто посидеть, глотнуть воды из бурдюка, размять ноги – до чего приятно!
И сядет в сторонке Иллели стыдливо, вполоборота, склонившись над Даждом и укрыв его белокурыми волосами, и даст ему грудь, целуя время от времени в родинку на голеньком правом плече. Бахир воссядет на снятом с коня седле, а Юнус почтительно устроится перед ним прямо на песке.
– Что скажешь? – спросит Бахир небрежно, следя краем глаза все-таки за Али, хлопающего верблюдов по спинам и что-то им ласково мычащего.
– Далеко еще, хозяин?
Бахир рассмеется, довольный. Полированная кость медленно скользнет по шелковому шнурку, давая дорогу остальным.
– Не знаешь дороги? То-то же. А что ты знаешь? Ты без меня здесь – горсть песка, Юнус, и я хочу, чтобы ты знал это.
– Я знаю, – пожмет плечами Юнус.
– Хорошо. А теперь принеси-ка мне воды, – прикажет Бахир.
Юнус проворно вскочит на ноги, и в этот момент Бахиру покажется, что Али куда-то исчез.
Что такое? Куда подевался этот бессловесный верблюжий помет?
Бахир недоуменно завертит головой и наконец увидит Али. Тот почему-то ляжет среди верблюдов, прямо лицом в песок, и не будет шевелиться. Бахир захочет привстать и с ужасом заметит торчащую из спины Али короткую стрелу. Силы покинут Бахира, он рухнет кулем обратно на седло.
Рядом с ним что-то коротко тенькнет, словно встревоженная куропатка своему выводку, и такая же стрела вопьется в грудь Юнусу. Юнус взмахнет рукой с зажатым в ней кувшином и упадет, грохнув кувшин об землю, прямо под ногами Бахира. А потом ужасный крик разорвет слух Бахира, потому что третья стрела вопьется в грудь Иллели, и она поползет по песку прятаться среди камней, но не выпустит из рук Дажда с забрызганным молоком и кровью лицом. И Бахиру станет это смешно.
Потому что – вот, стрела всегда хочет напиться крови, а тут ей пришлось напиться, словно младенцу, женского молока!
Но рассмеяться Бахир не успеет, потому что над ухом у него снова коротко тенькнет куропаткой, и станет горячо и спокойно, и он поймет, что стрела, предназначенная ему, напьется досыта – и напьется крови. И он упадет с седла в песок, нелепо откинув руку с зажатыми в ней четками в сторону Иллели, и лицо его примет удивленное выражение, как будто он только сейчас понял что-то очень важное, и губы шепнут коротко и хрипло:
– Дажд!
И все будет кончено. И наступит тишина, как будто ничего не произошло, и только горестно будет постанывать Иллели, и а Дажд – тихо мяукать обиженным котенком в ее руках.
У маленького истерзанного каравана появятся всадники на тонконогих горячих лошадях, в белых одеждах и походных серых, под цвет пустыни, абах30 поверх них; спешатся и вразвалку, неторопливо пойдут осматривать добычу. Одни начнут рвать ножами тюки с товарами, другие займутся ослом и конем. Над Иллели склонятся двое: горбоносый, смуглый, в цветастом платке, и лысый, безбородый, со страшным сабельным шрамом через все лицо. Горбоносый поцокает удивленно языком, увидев стрелу, а лысый одним страшным безжалостным движением вырвет ее из груди Иллели. От боли Иллели потеряет сознание, но по-прежнему не выпустит Дажда из рук.
Она придет в себя, когда разбойники закончат перевьючивать верблюдов. Лысый с сабельным шрамом будет сидеть рядом с мертвым Бахиром на брошенным на землю седле и любовно, выдвинув челюсть и растянув губы, почесывать одним пальцем свой шрам.
– Фархад, – крикнет ему один из разбойников, – что делать с верблюдами, ослом и пленницей?
– Отправьте верблюдов и осла к их покойным родителям, – не прерывая своего занятия, ответит Фархад, – а пленницу… Грузите ее с моим добром
– Стойте! – раздастся крик.
Работа прервется.
Еще один разбойник, горбоносый в цветастом платке, бросит увязывать тюки и подойдет к Фархаду. Остальные с интересом будут слушать и смотреть. Фархад, прищурившись, посмотрит на подошедшего, продолжая почесывать шрам.
– Ты хочешь что-то сказать, Исмаил?
– Фархад, моя белая стрела долетела до каравана первой.
– Говори еще, – Фархад неторопливо примется освобождать купца Бахира от ненужных ему больше полированных четок из носорожьей кости на тонком шелковом шнурке.
– Я первый доскакал до каравана.
– Говори еще.
– По закону женщина – моя!
– Говори еще!
– Я все сказал.
– Тогда буду говорить я, – Фархад поднимется. – Закон? – он медленной струйкой посыплет песок из пригоршни на мертвое лицо Бахира. – Вот твой закон!
Фархад отряхнет ладони и пойдет со своим седлом к коню Бахира, ставшему его собственностью. Остановится внезапно, выждав паузу, обернется к Исмаилу.
– Ты – храбрец, Исмаил, но ты слишком молод, чтобы устанавливать здесь свои законы, и слишком глуп, чтобы критиковать чужие. Однако ты заслужил добычу, а я ценю храбрецов в своем отряде. Можешь взять себе младенца, он твой по праву.
Остальные засмеются, восхищенные остроумием главаря.
– Собирайтесь, дармоеды! – скомандует Фархад, и повернет свой разбойничий отряд на восток, в самое сердце Аравы.
На первом же привале Иллели покормит Дажда, плача от горя и радости. От горя, потому что из пробитой стрелой левой груди будет беспрерывно сочиться молоко пополам с кровью. От радости, потому что она все-таки сможет кормить ее Дажда правой, оставшейся невредимой, грудью. И жар, охвативший ее левую грудь, покажется ей сладостным, потому что это она, кровоточащая левая грудь, спасла жизнь ее ненаглядному сокровищу, приняв в себя направленную на него оперенную смерть. Она размотает пелены, в которые обернут Дажд, и отщипнет несколько листков от увядшей веточки, найденной ею при Дажде, когда тот проснулся от своего долгого-долгого сна на постоялом дворе, и разжует их, и приложит их к своей израненной груди, и беззвучно заплачет редкими благодарными слезами, когда боль начнет понемногу отступать и жар оставит ее31.
Разбойничий отряд будет уходить все дальше и дальше, стремительными запутанными лисьими бросками, пересохшими руслами и неразличимыми среди камней и песка тропами, отлеживаясь при свете солнца и пополняя скудные запасы воды при свете луны из редких колодцев, неизвестных даже Бахиру, который, впрочем, испил напоследок вволю песка вместо воды.
Джауф, Хаиль, Бураида32… Или это миражи? Или это миражи слов, дразнящих воспаленный язык? Или это миражи миражей?
Сколько времени это продолжалось? Имеет ли название отрезок времени, для которого все, что было – это одна жизнь, а все, что будет – это совершенно другая? Скачка, хриплое дыхание взмыленных коней, равнодушные звезды, завораживающий шепот переносимого ветром песка, глоток рыжей от пыли воды и ясный, немного удивленный взгляд широко раскрытых детских глаз.
И еще один взгляд, все чаще тревожащий Иллели, затаенный днем и открытый, соперничающий со звездами ночью, – взгляд горбоносого Исмаила. И когда надвигающаяся песчаная буря заставит Фархада остановиться и сделать привал, Исмаил перельет расплавленную сталь своего взгляда в тяжелую форму слов.
Усталые, измученные люди собьются в кучу, выставив коней в наружное кольцо. Иллели отползет под обломок скалы, чтобы покормить Дажда, и Фархад перехватит взгляд Исмаила, направленный на нее. Кривая усмешка накрест пробежит по шраму от сабельного удара на его лице, и Исмаил заметит эту усмешку. Он заметит ее, и раздует ноздри своего ястребиного носа, как жеребец, не желающий смириться с ненавистной тяжестью на своей спине. И выйдет в круг разбойников.
– Ну что, Фархад, не пора ли сказать, куда ты нас завел? Мы потеряли счет дням, звериным тропам и миражам.
– Хорошо ли ты считал, Исмаил? – насмешливо скажет Фархад, не глядя на него и продолжая неторопливо перебирать четки.
– Ты ведешь нас то на восток, то на юг, то на север, сам не зная куда. Ты мечешься, как шакал, обложенный собаками, и петляешь, как змея под ногами обезумевших верблюдов!
– Не ты ли один из этих обезумевших верблюдов, Исмаил?
Смех остальных разбойников ударит в голову Исмаилу, и он крикнет, уже не сдерживаясь:
– Если я – верблюд, тогда кто ты, Фархад, – змея или шакал?
И стихнет смех, и наступит зловещее молчание. А Фархад, невозмутимо улыбаясь, все так же лениво, словно передвигая полированные кости по шелковому шнурку, растягивая слова, ответит:
– Ступай к младенцу, Исмаил – не пора ли его кормить?
Оскорбленный Исмаил в бешенстве схватится за кинжал на поясе, но люди Фархада повиснут на его руках, валя на землю и накидывая на него веревки. А потом кинут его, обездвиженного и рычащего от ярости и унижения, под ноги Фархаду. И Фархад наступит ему на голову, забивая ему рот песком, все так же лениво говоря:
– Ты даже не верблюд, Исмаил, а сын верблюда и гиены, если у гиен бывают шлюхи. А вот кто я, тебе предоставится возможность подумать. Но думать ты будешь очень долго. И когда твою кожу выцарапает песок, а глаза выпьет солнце, может быть, ты поймешь, кто я!
И шагнет прочь от Исмаила, бросив остальным на ходу:
– Завтра, как только стихнет буря, мы уходим. Оставьте его здесь! Славное пиршество предстоит шакалам!
– Фархад, переседлать ли тебе коня Исмаила? – спросит один из разбойников.
– Нет, – покачает головой Фархад. – В трех переходах от нас – Саффания. Там мы продадим шелка и лишних коней, в том числе и клячу этого сына мидийской шлюхи.
– А невольница?
Фархад улыбнется, и снова ухмылка его пересечет сабельный шрам:
– Прошли дни ее, и грудь ее зажила. Завтра младенец останется здесь, ведь это добыча Исмаила! А на следующем привале я познаю ее.
И день перейдет в ночь, но Иллели не заметит этого, охваченная страхом предстоящего дня.
Мальчик мой! Каких богов мне умолять о твоем спасении?
Песок уже не будет шептать завораживающе, а выть издевательски: «Завтра! Завтра!», взметая вихри над чернеющим неподалеку неподвижным телом Исмаила. И когда заворочается под рукой разбуженный порывом ветра Дажд и недовольно закряхтит, Иллели примет решение.
Молчаливой тенью она скользнет к Исмаилу и начнет распутывать его от веревок, помогая себе зубами. Освобожденный Исмаил только глянет в ее бездонные глаза и молча махнет ей рукой по направлению ветра, и она поймет его, и пойдет туда, прижимая к раненой груди Дажда, но не чувствуя боли, соразмеряя шаги с порывами бури, чтобы не привлечь к себе внимание, проваливаясь по щиколотки в песок и обдирая ноги о камни.
Она найдет укрытие среди скал и затаится там, как раненая кошка, чутко вслушиваясь в визжащую ночь и прижимая к себе Дажда. Долго будет тянуться это ожидание, изводя и обессиливая ее. До нее донесется неясный шорох, короткое звяканье, глухой перестук – и снова тишина. А потом – медленные, страшные в своей неведомости звуки шагов, окружающие ее то слева, то справа. Иллели стиснет Дажда, заклиная его промолчать и не выдать себя, и обратится к небу и земле, солнцу и луне, материнскому своему молоку и теплу детского тельца в ее объятиях с просьбой избавить ее от мук, когда мрак сгустится перед нею страшными космами. Иллели задохнется от ужаса и отчаяния, но это окажется Исмаил, ведущий коня в поводу. Он молча присядет рядом, чтобы отдохнуть, а потом усадит ее с Даждом в руках на коня и поведет через нагромождение камней, держа коня за уздечку и успокаивая при порывах ветра ласковым поглаживанием морды. И когда они пройдут каменистую гряду, и смесь песка, ветра и темноты чуть поблекнет по левую руку, Исмаил легко вскочит на коня позади Иллели, повернет его налево и пустит его вскачь – на восток.
О проекте
О подписке